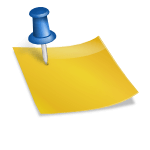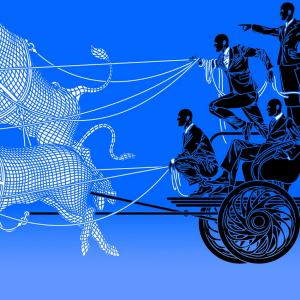Сергей Карпов по моей просьбе перевел главу из книги Дилэни “The Jewel-Hinged Jaw: Notes on the Language of Science Fiction”, которая упоминается в курсе писательства от мастера комиксов Алана Мура.
О 5750 словах
В каждом поколении какой-нибудь критик вновь заявляет пугающе очевидное о конфликте стиль/содержание. Большинство читателей недоумевают. Большинство коммерческих писателей (не говоря уже о редакторах) сперва волнуются, потом возмущаются; наконец выкидывают это из головы и продолжают делать, что делали. И остается только кому-то в новом поколении повторить:
Стиль – не противоположность содержанию.
Но фантастика – все-таки область коммерческой литературы. Тогда разве не очевидно, что произведение становится фантастическим именно из-за своего специфического содержания? А еще в середине и конце шестидесятых шло много споров о старой и новой волнах НФ. Споров иногда плодотворных, порой – язвительных, чаще – просто дурацких. Но в лексикон критиков с обеих сторон входили «старый стиль… новый стиль… старое содержание… новое содержание…» Вечно поднимались вопросы: «Важно ли содержание?» и «Как с ним сочетается стиль?» И снова повторю: «содержания» не существует. Тогда встают два новых вопроса: 1) Как это возможно, и 2) Что мы получим, разложив содержание на стилистические элементы?
«Содержание», «смысл» и «информация» – это метафоры для абстрактных свойств слова или набора слов. Сейчас я бы хотел сосредоточиться на «информации».
Так существует ли содержание?
Вопрос можно переформулировать так: существует ли вербальная информация помимо той, что передают слова?
Судя по лексикону критики, можно подумать, будто есть. Информация доносится до читателя посредством слов / вместе со словами / внутри слов. Люди доносятся до цели посредством машин / вместе с машинами / внутри машин. Значит, извлечь информацию из слова должно быть не сложнее, чем открыть дверцу «форда мустанг»: слово «содержание» означает, что что-то где-то содержится.
Но давайте вернемся к «информации», причем довольно окольным путем. Смотрите:
red
(красный)
Увидев эти одинокие буквы на странице, читатель еще не может знать, что они означают. Политические взгляды или звук, который произносишь после «b» в слове «bread»? Само слово не порождает содержательную информацию, пока не вступит в формальные отношения с чем-то еще. Оно может вступить в формальные отношения с предметом («красный» написано на закрытой банке с краской) или с другими словами («В окно машины дул освежающий ветерок. Упс – красный! Он нажал на тормоз»).1
Предположение, будто смысл, информация или содержание содержатся где-то внутри слов, – только сбивающая с толку визуализация. Вот более удачный пример:
Представим смысл как нить (или лучше тропинку), соединяющую звук или набор букв под названием «слово» с конкретным предметом или набором предметов (или лучше воспоминаниями об этих предметах). Узнать смысл слова — это пройти по нити от звука к конкретному воспоминанию о предметах, чувствах или ситуациях, а если точнее, то к различным образам этих предметов/чувств/ситуаций в вашем разуме. Если выражаться напыщенней, смысл («содержание» или «информация») – это формальные отношения между звуками и образами объективного мира.2
Дальше любой сообразительный знаток логики сможет выстроить доказательство для этимологической тавтологии «Вся информация формальна», а также следствия из нее: «Невозможно изменить форму, не изменив информацию». Даже не буду приводить его во всех подробностях. Но все-таки скажу, что «содержание» правда может быть полезным термином; однако, еще раз, это не противоположность стиля. Содержание – это иллюзия, которую создает множество стилистических факторов, если не приглядываться внимательно.
Когда я говорю, что невозможно изменить форму, не изменив информацию, я не хочу сказать, будто любые формальные изменения (например, перестановка пары слов в романе) полностью перечеркивают информационный опыт от данного произведения. Часто формальные изменения минимальны; их влияние на конкретный набор слов неважно просто из-за незаметности. Но я хочу оставить открытой возможность и для того, что и от изменения одного слова в романе может зависеть все.
– Ответь, Марта, ты правда его убила?
– Да.
Но в издании в мягкой обложке вторую строчку случайно потеряли. Разве может удаление одного-единственного слова повредить удовольствию от остальных 59 999 слов романа…
Помню, в моем втором изданном романе в ключевом предложении начальной экспозиции говорилось, что связь между двумя городами «…пропала навсегда». Из-за типографской ошибки предложение стало «…не пропала навсегда» и, по сути, испортило всю историю.
Но упрощенность этих примеров скорее мешает моему тезису, чем поддерживает. Вот другой, более релевантный:
Я что-то положил на стол.
Я положил на стол книги.
Я положил на стол три книги.
Я положил на стол три сборника стихов.
Я положил на стол Presentation Piece Хакер, Sketches for Thirteen Sonnets Эббе Борегарда и Inside the Blood Factory Вакоски.
Вот эти вариации уже ближе к тем, что люди, верящие в химеру содержания, называют незначительными. Очевидно, что каждое предложение порождает разную информацию. Но знания о книгах на столе – лишь самая очевидная разница. Допустим, это первые предложения пяти разных рассказов. Разная конкретность дает пять разных интонаций. Эти интонации услышит – пусть даже и не отметит сознательно – любой читатель. А разные интонации дают и разную информацию как о характере говорящего, так и о его внутреннем состоянии. То есть каждое предложение порождает разное «я».
Когда писатель умеет пользоваться этой информацией о говорящем, его история становится плотнее, реальнее. И он, как художник, лучше того писателя, который считает эти вариации незначительными. Вот почему Хайнлайн как писатель лучше Ван Вогта.
Но даже рассмотрев разные «я», мы еще не исчерпали все различия этих предложений. Как мы узнаём что-то о характере разных персонажей и о том, что именно персонаж кладет на стол, так возникают и разные вероятностные диапазоны столов (и всей комнаты вокруг) – пять разных диапазонов. Эту информацию уточнить уже намного сложнее, потому что на нее влияет множество других факторов: принадлежит ли стол персонажу, или кому-то другому, к кому он испытывает некие чувства, или он увидел стол впервые? Уже нельзя сказать, что какое-либо дальнейшее описание стола неправильное потому, что противоречит информации, порожденной этими предложениями. Но когда эти факторы прояснятся, одно описание точно может показаться «правильней» другого, подтвердившись разной в каждом примере информацией, пусть и действительно расплывчатой. И из-за этого умения эффективно прояснять порождаемую информацию Старджон как писатель лучше Хайнлайна.
В каждом из данных предложений единственная видимая формальная вариация – пояснение, что именно «я» кладу «на стол». Но с этим изменением меняются и «я», и «стол». Из-за вроде бы минимально отличающихся мелочей по-разному представляются и вымышленный субъект, и равно сложный (а в научной фантастике – равно важный) вымышленный объект. От авторской чуткости к этим различиям зависит иллюзия реальности, ощущение правдоподобия в произведении.
История – не смена одного набора слов другим, в отличие от синопсиса, подробного пересказа или анализа. История – это то, что происходит в разуме читателя, когда его взгляд переходит от первого слова ко второму, от второго – к третьему и так далее до конца.
Приглядимся поближе к тому, что происходит в ходе этого визуального путешествия. Как, например, труд чтения отличается от просмотра кино? В кино иллюзию реальности создает последовательность изображений, где каждое немного отличается от предыдущего. Разница здесь – в зафиксированных хронологических отношениях, которые глаз и разум воспринимают как движение.
Слова в повествовании порождают интонации, синтаксические ожидания, воспоминания о других словах и картинки. Но находятся не в зафиксированных хронологических отношениях, а во множестве пере- и надплетающихся отношений. Процесс движения взгляда от слова к слову скорее корректирующий и ревизионерский, чем прогрессивный. Каждое новое слово позволяет пересмотреть сложную картину, которую мы только что видели перед собой.
Вокруг смысла любого слова есть пространство, в котором мы корректируем образ объекта (или, пользуясь старым грамматическим термином, модифицируем).
Я говорю:
собака
и у вас в разуме возникает картинка (как и с «красным»), но поскольку я не поставил слово в формальные отношения с чем-то еще, вы еще не можете знать, подходит ли ваша конкретная картинка к тому, что я хочу донести. Так и возникает то пространство. Я могу исправить образ: «собака колли» – и вы согласитесь. Я могу исправить его на «большую собаку» или «лохматую собаку» – и вы все еще это примете. Но «собака шевроле»? «Оксиморонная собака»? «Вычурно сердечная собака»? В рамках разговорной речи и натуралистической прозы такие правки находятся вне принятых рамок; они искажают образ слишком необычно для того, что нам привычно ассоциировать со звуком «собака». С другой стороны, в этих искажениях имеется свое удовольствие, довольно интересная новизна, хоть им и не хватает неизбежности нашей большой лохматой колли.
Роман на шестьдесят тысяч слов – это одна картинка, исправленная пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять раз. У этого общего опыта должно быть как ощущение новизны вычурно сердечного создания, так и неизбежность нашего большого и лохматого друга.
Теперь разложим сам корректирующий процесс. История начинается:
The
Какую картинку забросило вам в разум? Какая бы она ни была, до конца истории она изменится еще много-много раз. Лично мое немодифицированное и довольно произвольное «The» – это сероватый эллипсоид полтора метра высотой, стоящий на полу где-то в метре от меня. Ваше – наверняка другое. Но оно есть – с конкретным размером, формой, цветом, в особых отношениях с вами. Мой артикль «a», например, отличается от «the»: он примерно той же формы и цвета – может, разве что чуть бледнее, – но либо намного дальше, либо намного меньше и ближе. Так или иначе, «a» меня интересует куда больше или куда меньше, чем «the».3 Теперь мы подходим ко второму слову в истории – и к первой правке:
The red
(красный)
Мой полутораметровый эллипсоид только что сменил цвет. Он все так же далеко. Но уже интереснее. Вообще-то даже сейчас я смутно чувствую, что мой интерес больше того, что я обычно отвожу для «the». Я чувствую напряжение, которого бы не было, если бы два первых слова были «A red…». Мои глаза переходят к третьему слову, а разум готовится ко второй правке:
The red sun
(красное солнце)
Теперь первоначальное «the» сменилось сияющим диском. Цвет заметно осветлился. Диск висит надо мной. Вокруг образуется неразборчивый пейзаж. И, узнав о расстоянии, я уже отчетливей ощущаю разницу между уровнем моего интереса к «red sun» и моим обычным вниманием к «the», ведь от первоначального образа только и остался что уровень интереса.
Если говорить о будущих поправках, у меня пока еще нет отчетливого понимания того, что происходит в этом пейзаже, – рассвет, закат или, если сейчас другое время дня, не подернут ли воздух какой-нибудь дымкой (…красное солнце…), – но я жду следующей поправки:
The red sun is
(букв. «красное солнце есть»)
Внезапное ощущение близости. От меня требуют еще больше внимания – «was» (прошедшее время) такого не требует, ведь «was» присуще традиционному историческому нарративу. А вот «is»?.. Говорящий где-то здесь! Сосредоточенное внимание, которое я ощутил между первыми двумя словами, – не мое, а говорящего. Оно выливается в интонацию: «Красное солнце…» И я слушаю этот голос посреди все еще смутного пейзажа, отмечаю его интерес к красному солнцу. Между «The» и «red» информация породилась, а между «sun» и «is» – вылилась в содержательную поправку. Это мое первое эстетическое удовольствие от истории – совсем маленькое, ведь мы углубились всего-то на четыре слова. Но это все-таки капля в общем удовольствии от повествования. Наблюдая и слушая говорящего, я перехожу к следующей поправке:
The red sun is high,
(красное солнце высоко,)
Полдень, слегка пасмурно; лишь подтверждение того, о чем я подозревал, совсем не такая серьезная поправка, как перед этим. Она вливает в окружение легкое ощущение тепла, фиксирует источник света в конкретной точке. Я пытаюсь представить пейзаж отчетливей, но ни один предмет, включая говорящего, еще не проступил. Запятая сообщает, что мыслегруппа завершена. В паузе мне приходит в голову, что краснота солнца может и не намекать на смог – это просто говорящий впал в литературность; или красный цвет – лишь проекция его сознания, которого я еще не понимаю. И на миг я замечаю, что для меня солнце действительно остается привычного ослепительного бело-золотого цвета. Следующая поправка:
The red sun is high, the
В этом странном пейзаже (освещенном солнцем несколько ненадежного описания) говорящий перевел взгляд на новый серый и полутораметровый эллипсоид, равноудаленный от него и от меня. И снова тот слишком неразборчив. Но мы уже видели две поправки без особенно большого напряжения – а реальность говорящего начала от нас ускользать. Что получится здесь?
The red sun is high, the blue
(красное солнце высоко, синее)
Эллипсоид сменил цвет. Но этот повтор в синтаксической структуре описания вдруг грозит свести всю реальность, пейзаж, говорящего и солнце в манерное буколическое перечисление. Сцена теряет живость. А последняя правка?
The red sun is high, the blue low.
(Красное солнце высоко, синее – низко.)
Глядите-ка! Мы уже где-то далеко, в целых мирах от дома. Первое солнце – огромно; и каким точным оказалось описание его цвета. Повтор, предвещавший маньеризм, теперь располагает большое и малое солнца на небе. По пейзажу ползут длинные красные и короткие голубые тени, соединяясь фиолетовыми треугольниками. Взгляните и на самого говорящего. Вы видите его? Вы видели его двойную тень…
Вот это, хоть обычно все пролетает за четверть секунды и в основном в подсознании, и есть тот процесс.
Когда поправки от слова к слову дают только размытую картинку, когда неясные детали так и не проступают с новой четкостью, мы называем писателя плохим стилистом. Если история продолжается и картинки со временем становятся все сложнее, но по мере правок возникают еще большие аномалии, мы говорим, что писатель не умеет работать с сюжетом. Но ошибка-то все та же, качественная, только куда масштабнее и, чтобы ее заметить, читатель должен пройти треть или три четверти книги, тогда как первая бросается в глаза в первом же предложении.
Аргумент писателей и редакторов из любой коммерческой области литературы (включая НФ), считающих, что содержание можно противопоставлять стилю, звучит, если сформулировать емко, так:
«Мы пишем, по сути, приключения. И пишем очень быстро. У нас нет времени ни на какие ошибки, кроме самых вопиющих. А главное, вы говорите о тонкостях, которые подавляющее большинство наших читателей не видят, потому что они не такие начитанные или умудренные».
О внутренних противоречиях тут можно целую книгу написать. Давайте я покажу два.
Основа любого приключенческого романа, НФ или нет, то, что дает ему развлекательную ценность – эскапистскую, если угодно, – то, что отличает его от психологического романа, то, из-за чего он вообще зовется приключенческим, – это интенсивность, с которой события истории врываются в сознание протагониста. Самый простой способ создать ощущение приключения – усилить интенсивность, с которой события врываются в сознание читателя. А эта литературная интенсивность почти целиком находится в вотчине тех самых тонкостей, о которых я говорю.
И рассказ о первом шаге младенца по кухне станет приключением, если писатель сумеет показать детское изумление из-за новых мышц, новых усилий, препятствий и их преодоления. Я бы такое почитал.
Все мы читали, и слишком часто, о героических попытках Джона Смита спасти семь сирот от пожара, наводнения и лавины.
Уверен, для Смита это было приключением.
Для читателя – скучнее не придумаешь.
Теодор Старджон назвал рассказ «Двери лица его, пламенники пасти его» (The Doors of His Face, the Lamps of His Mouth) Роджера Желязны «сплошь скорость и приключение», и это в самом деле одна из самых интересных приключенческих историй в истории НФ. Дайте мне заменить всего одно слово в каждой грамматической единице каждого предложения на то, что «значит более-менее то же самое», – и я снижу интересность в два раза, а от остроумия не оставлю и следа. Дайте мне заменить одно слово и добавить еще одно – и текст станет настолько скучным, что практически нечитабельным. И все же синопсис «содержания» абзац за абзацем останется все тем же.
Для меня особенно больно выслушивать (хотя и приходится это делать все чаще), как грамотный человек, увлекшийся каким-нибудь конвейерным космическим боевиком, поет дифирамбы о том, что примитивный, неточный, свинцовый язык отражает отстранение накачанного героя от реальности. Дальше этот человек обычно объясняет, что «НФ-содержание» само по себе показывает отрыв общества от реальности. Это больно потому, что он в чем-то прав. Некачественная приключенческая литература – наша истинная антилитература. Ее протагонисты – наши антигерои. Они путешествуют по ненастоящим мирам среди всяческого шума и умудряются не увидеть ничего содержательного или содержательно.
Неважно, чего хотел автор: в этом суть некачественной НФ. Однако любой, кто читает или пишет НФ всерьез, знает о ее уникальном достоинстве в совершенно другой области: в шумихе нереальных миров могут звучать аккорды, созвучные реальности.
«Вы говорите о тонкостях, которые подавляющее большинство наших читателей не видят, потому что они не такие начитанные или умудренные».
Этот довод мне всегда напоминает случай из лета, когда я преподавал коррективный курс английского в общественном центре своего района. Из-за добровольности посещения автоматически отсеивались все, кто не хотел учиться; и все же на мои уроки приходили шестнадцати- и семнадцатилетние ребята, никогда не учившие испанский или английский в школе. Тем не менее когда ученик проводил у меня полгода, я задавал роман на целых пятьсот пятьдесят страниц: «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (The Romance of Leonardo da Vinci) Дмитрия Мережковского. Эта книга трещит по швам от истории Ренессанса, а также магии, сражений на мечах и диссертаций о науке и искусстве. Чрезвычайно литературный роман с несколькими смысловыми пластами. Он нравился Зигмунду Фрейду (Рильке в письме сказал, что его ненавидит) и вдохновил его написать «Леонардо да Винчи. Этюд по теории психосексуальности». Ее обожали мои ученики, теряя после прочтения страх перед Литературой и Длинными Книжками.
Незадолго до того как мне пришлось уйти из центра, «Леонардо» вышел в мягкой обложке в переводе Губерта Тренча. До тех пор он существовал только в издании Modern Library в переводе Бернарда Гилберта Герни. Чтобы избавить двух учеников от похода в подвал «Барнс энд Нобл» и сэкономить им доллар пятьдесят, я предложил купить новое издание. Через два дня один пробился только через сорок страниц, а другой сдался на десяти. Оба сказали, что книжка скучная, не поняли, о чем она, и умоляли задать что-нибудь покороче и поинтереснее.
Пребывая в изумлении, я в тот же день сам купил перевод Тренча. Сейчас книги под рукой у меня нет, поэтому, уверен, при сравнении текстов покажется, что я преувеличиваю. Но я помню одно описание маленького домика во Флоренции:
Герни: «Из кирпичной трубы подымался и вился серый дым».
(Gray smoke rose and curled from the slate chimney.)
Тренч: «От кирпича дымохода возносились и извивались клубы дыма, серого и угрюмого».
(Billows of smoke, gray and gloomy, elevated and contorted up from the slates of the chimney.)
(Возможный оригинал: «…ветхий домик на том берегу, с кирпичною трубою, с клубами черного дыма»)
Как отличались пять предложений о книгах на столе, так и эти два описания показывают не один дым, трубу, дом, время дня; меняются и остальные дома в округе, и любые их возможные обитатели. В одном предложении – восемь слов, в другом – одиннадцать. Но разложите оба на серию исправляемых образов – и обнаружите, что во втором случае нужно в шесть-семь раз больше умственной энергии! И больше семи восьмых предложения оставляют неприятное ощущение разболтанности, недоиспользованности и непроясненности. Увы, больше всего от плохого текста страдает менее начитанный, менее знающий читатель. Плохой текст требует больше умственной энергии для исправления картинки от слова к слову, да и вознаграждают эти исправления меньше. Потому текст и плохой. Начитанный, грамотный читатель еще может дать ему шанс и предположить, вдруг эту кажущуюся громоздкость можно плодотворно истолковать как намеренную двусмысленность.
Раз уж об этом заговорили, я сам, когда пишу, часто стараюсь сказать несколько вещей сразу – держа в уме экономию, сопряженную со стремлением к мастерскому художественному самовыражению. И я наверняка не смог сказать многое из того, что хотел. Но неудачу показывает неопределенность, а не намерение.
Но как все это относится к конкретным наборам исправленных образов, которые мы называем НФ? Чтобы ответить, нужно сперва понять, что отличает эти наборы слов от других под названиями «натуралистическая литература», «репортаж», «фэнтези».
В НФ у всех слов есть определенная степень допущения – совсем не такая, как у степени допущения в натуралистической литературе, фэнтези или репортаже.
Допущение – это натяжение нити смысла между (заимствуя у Соссюра термин для «слова») акустическими образами (sound–image). Предположим, перед нами репортажный набор слов. Индикативное общее напряжение (или настроение) всего набора – «это произошло». С такой степенью допущения работает журналистика. Любое слово, даже метафора, должны отсылать к реальному объекту или реальной мысли.
Степень допущении в наборах слов из натуралистической литературы – «могло бы произойти». (Хотя степени допущения определяются словами, сами по себе слова ничего не определяют. Они не определения видов художественной литературы, только более-менее полезные и функциональные описания разных видов нарратива.) Отметим, что степень допущения диктует определенные ограничения и дает определенные свободы в том, какое слово может следовать за другим. Рассмотрим набор слов: «На миг, пока она стояла одна в пустыне, ее мир раскололся – и она наблюдала, как его обломки погребаются в дюнах». При репортажной степени допущения – практически бессмысленно. Зато для натуралистической прозы вполне пригодно, а то и блестяще.
Фэнтези берет степень допущения натуралистической прозы и переворачивает. Из-за появления эльфов, ведьм или магии в неметафорическом статусе или из-за правок, от которых картинка становится слишком странной и объясняется только сверхъестественным вмешательством, степень допущения уже становится «не могло произойти». И это тут же относится ко всем словам в наборе. Неважно, насколько натуралистичен сеттинг: стоит взлететь ведьме на метле, как самые реалистичные деревья, кошки, ночные облака или луна за ними тут же заражаются тем же допущением.
Но когда в наборе слов появляются космические корабли, бластеры или, если точнее, любые указывающие на будущее поправки и показывают, что перед нами НФ, степень допущения меняется вновь: эти объекты, эти появления объектов в ситуациях и событиях полностью входят в определение «не произошло».
События, которые не произошли, очень отличаются от вымышленных событий, которые могли бы произойти, или фантастических событий, которые не могли бы произойти.
События, которые не произошли, делятся на несколько подкатегорий. Эти подкатегории – подкатегории НФ. В события, которые не произошли, входят события, которые могут произойти: тут у нас технологические и социологические прогнозы. Другая категория – события, которые не произойдут: тут у нас научное фэнтези. Сюда же входят и события, которые еще не произошли (слышите обертон предостережения?): тут у нас поучительные антиутопии, «Дивный новый мир» и «1984». Будь в английском языке более подробная система времен, было бы проще заметить, что события, которые не произошли, могут относиться как к прошлому, так и к будущему. События, которые не произошли в прошлом, представляют собой особый раздел НФ о параллельных мирах, где выдающийся пример – «Человек в высоком замке» Филипа К. Дика.
Степень допущения НФ дает больше свобод в выборе слов, которые могут содержательно следовать за другими наборами слов, но в то же время ограничивает корректирующий процесс при движении между ними.
При степени допущении натуралистической прозы «Красное солнце высоко, синее – низко» не имеет смысла. В натуралистической прозе наши исправления картинок должны соответствовать тому, что можно наблюдать лично, – сюда относятся как наши собственные наблюдения, так и наблюдения других, до нас донесенные с помощью степени допущения журналистики.
При степени допущения фэнтези «Красное солнце высоко, синее – низко» уже работает лучше. Но и в фэнтези корректирующий процесс ограничен: когда нам дают поправку, не имеющую смысла в категориях наблюдаемого мира, мы обязаны принять любые псевдообъяснения. Если псевдообъяснений нет, поправка обязана остаться загадкой. В фэнтези мы подозреваем, что красное солнце – «настоящее», а какой-такой волшебник и по какой-такой причине воздвиг на небо вторую, лазурную сферу – мы не знаем и ждем ответа до конца истории.
Как мы видели, из этого предложения получается отличная НФ. Степень допущения НФ гласит, что мы обязаны вести корректирующий процесс согласно нашим знаниям о физически объяснимой вселенной. А объяснения с точки зрения физики куда шире, чем личные наблюдения.4 Словесная свобода НФ в сочетании с корректирующим процессом, для которого подключается вся физически объяснимая вселенная, позволяет бешеный полет воображения. Ведь НФ не только переносит нас в другие миры, но и объясняет, как мы туда попали.
Давайте рассмотрим, что происходит между двумя следующими словами:
крылатая собака
В натуралистической литературе это бессмыслица. В фэнтези – всего лишь визуальная правка. Однако на добавочном уровне НФ, делая такую визуальную поправку, уже нужно на миг принять в расчет целую ветвь эволюции: есть ли у этой собаки передние лапы или нет? Визуальная правка обязательно включает изменения грудины и мышечного строения, позволяющие полет, а также целый набор других факторов, от полых костей до частоты сердцебиения; а если в дальнейшем наборе слов мы узнаем, что причина в хирургической операции, то тут уже подразумевается технология (пусть даже неважная для истории), позволяющая такую операцию. Вся эта информация негласно существует вокруг и между двух слов точно так же, как информация о «я» и «стол» существовала в предложениях о том, как кладут книги. Хороший писатель НФ пользуется этой информацией так же, как и любой другой, порожденной противопоставлением слов.
Цитирую, как о своей реакции на этот вербальный процесс говорил сам Харлан Эллисон:
…Хайнлайн всегда умел показать общую необычность культуры совершенно походя: в романе – кажется, в «Там, за гранью», – персонаж входит через дверь, которая… раздвинулась (dilated). И никаких объяснений. Просто: «Дверь раздвинулась». Я прочитал и только через две строчки понял, что это за картинка, какие слова использованы. Раздвигающаяся дверь. Она не открылась – она раздвинулась, как диафрагма объектива! Господи, теперь я точно в мире будущего…
«Дверь раздвинулась» бессмысленно в натуралистической литературе и функционально бессмысленно в фэнтези. В НФ – в качестве события, которое не произошло, но его все еще можно истолковать с точки зрения физики, – это действительно так чудесно, как говорит Эллисон.
Живость этого конкретного видения Хайнлайна усиливалась самой разной информацией, открытой и подспудной, порожденной остальными словами романа.
Во всей этой дискуссии я старался не касаться того, зачем создаются эти свирепые сети чудес, что зовутся фантастикой. Чем фундаментальнее тема, тем важнее оставаться с читателем, перед страницей. Но теперь, с упоминанием авторского «видения», тема уже затронута. Видение (ощущение чуда, если угодно), к которому стремится НФ, для меня очень близко к поэтическому видению – особенно видению поэзии символистов девятнадцатого века. Как бы дисциплинированно ты ни писал, если хочешь войти в «нереальные миры», обязательно придется прикоснуться к мистике.
Почти вся классика фантастики – мистическая.
В трилогии «Основание» Айзека Азимова один человек, умерший на тридцать седьмой странице, достигает не меньше чем спасения всего человечества от двадцати девяти тысяч лет страданий при помощи всего лишь обостренного понимания человеческого существования. (Вместо «психоистории» читай «понимание человеческого существования».)
В романе «Чужак в чужой стране» Роберта Хайнлайна воплощение бога создает мир любви и каннибализма.
В «Конце детства» Кларка и «Больше, чем человек» Старджона в подробностях описаны очень разные процессы, как человек становится больше чем человеком.
Многие читатели и писатели как в области фантастики, так и вне ее считают «Моя цель – звезды» (или «Тигр! Тигр!» – оригинальное название) Альфреда Бестера величайшим НФ-романом. В этой книге человек – чрезвычайно человеческий, но в то же время и больше чем человек, – становится, заново осознав свою человечность, чем-то еще больше. В книге рассказывается о социализации – но в обществе, которое, с нашей точки зрения, сошло с ума. В кульминации восприятие протагониста, горящего в развалинах разрушающейся церкви, сбоит из-за синестезии. Он в ужасе, его начинает безумно носить по времени и пространству. И тогда с помощью заклятого врага, преображенного временем в его спасителя, он спасает себя и достигает невинности и перерождения.
Это же все основа мистицизма.
А еще это очень сильное переложение в драматическую форму теории Рембо о том, что для достижения неведомого нужно привести свои чувства в длительное расстройство. И упоминание Рембо здесь неслучайно, как и упоминания в книге Джойса, Блейка и Свифта. (Я бы почитал подробное исследование связи между символистами и современной американской фантастикой. Те проблемы восприятия, что интересовали французских символистов, раз за разом исследовали не только такие писатели, как Бестер и Старджон, но и более молодые вроде Роджера Желязны, привносящего как эрудицию, так и магию слова в странные творения, порожденные отношениями между самоубийством и бессмертием. И все ответы, что они находят, уникальны.) Вкратце: каким бы ни было вдохновение или видение, осеняет ли оно в один миг или тщательно вырабатывается годами, писатель может его показать, только вызывая у читателя что-то в разуме между одним и другим словом, только работая с существующими связями между словами и ассоциирующимися с ними образами.
Я читал много описаний «мистического опыта» – в том числе в НФ-рассказах и романах. В редких, очень редких было ощущение мистического – то есть писатели, выставляя поправку за поправкой, рисовали слишком неправдоподобные образы, чтобы вызвать личный отклик. Здесь можно поучиться у символистов: единственное, чему мы доверяем вызвать в нас истинное ощущение мистического, – это отдающаяся в нас эстетическая форма.
Ощущение мистического ужаса в, например, выдающейся повести Томаса М. Диша «Азиатский берег» появляется не из-за исследования конкретного зловещего типа расизма, пусть это исследование и глубокое; не из-за финальных событий, раздражающе подвешенных между сверхъестественным и безумным. Скорее его порождают формальные параллели между представлениями протагониста о византийской архитектуре и очевидной архитектурой его собственной личности.
Эстетическая форма… на этом неопределенном термине я и закончу дискуссию. Для многих он граничит с бессмысленным. Надеюсь, между моими словами хватит напряжения, чтобы во что-то вылиться в сочетании с тем, что было выше. Впрочем, подытожу: для любой серьезной дискуссии о фантастике надо сперва уйти от бесполезной концепции НФ-«содержания» и осмыслить, что за конкретное словесное чудище находится перед нами. Надо исследовать как ту степень допущении, с которой работает фантастика, так и конкретные интенсивность и диапазон образов, которые эта степень дает. Читателям это нужно, если они хотят вполне понять написанное. Писателям этом нужно, чтобы их сфера доросла до того потенциала, за который ее так часто отмечают.
Нью-Йорк
Декабрь 1968
1 Я специально не пользуюсь в этой дискуссии термином «символ». Лексикон, в котором он требуется, вызывает слишком много путаницы.
2 Еще у слов, кроме смысла, есть «звуковая субстанция», или «голос». И все писатели, конечно же, обязательно должны работать со звучанием, чтобы контролировать не только смысл фразы или предложения, но и их ритм. Только эта дискуссия уже ближе к поэзии. Рассматривать как ритуальные, так и музыкальные качества языка в НФ значит считать поэзию и прозу неразличимыми. Это совсем не моя цель.
3 Прим. пер. Для напоминания: артикли в английском языке служат для обозначения определенности или неопределенности. «The» – конкретный предмет, «a/an» – неопределенный предмет или один из многих.
4 Здесь я пишу скорее для интеллектуальной игры. Нетрудно заметить, что как в «события, которые не произошли» входит подгруппа «событий, которые не произошли в прошлом», так в них входит и под-подгруппа «событий, которые могли бы произойти» с подразумеваемым «но не произошли». Другими словами, степень допущения НФ включает в себя заодно и степень допущения натуралистичной литературы.
Так же и лично наблюдаемый мир является подкатегорией физически объяснимой вселенной. То есть законы первого мира объясняются законами второго, а наоборот – уже не факт. Вот тебе и две вроде бы разные степени допущении и ограничений исправительного процесса.
А что же тогда со свободами в выборе следующего слова?
Я не могу представить себе набор слов, который мог бы появиться в натуралистичной литературе, но не мог бы в том же порядке появиться в спекулятивной. Зато легко могу представить множество наборов слов, которые подходят для спекулятивной литературы и не имеют смысла в натурализме. Тогда что здесь категория, а что – подкатегория?
Как мысль: натуралистичная художественная литература – это истории о параллельных мирах, чьи отклонения от реального слишком малозаметны для исторической проверки.